Судьбы русского народа и православия вызывали большую озабоченность у писателя в зрелые годы его жизни. Это было время явного оскудения религиозных чувств и верований в высших слоях общества как на Западе, так и в России.
Достоевский писал: «Наступает материализм, слепая, плотоядная жажда личного материального обеспечения, жажда личного накопления денег всеми средствами — вот всё, что признано за высшую цель, за разумное, за свободу, вместо христианской идеи спасения лишь посредством теснейшего нравственного и братского единения людей».
Убогое состояние современных ему умов, принявших за идеал сытость и земной комфорт, Достоевский увязывал с упадком и пороками западного христианства — католичества и протестантства. То и другое, уступая человеческой слабости (в противовес будто бы слишком суровым требованиям христианского учения), в результате пошли у неё на поводу. Это вело к отказу от всякой религии, к богоборчеству и атеизму.
В том же направлении, стараясь не отстать, а нередко и опережая западных вожаков, двигалась в огромном большинстве и русская либеральная публика. Духовная основа русской государственной жизни, её православные корни сделались предметом ядовитой насмешки и безоговорочного отрицания во имя новейших европейских понятий и достижений цивилизации. Это не могло не вызывать презрения тех, кто не собирался плыть в русле широкого и мутного потока. Тютчев в 1864 г. писал:
Как перед ней ни гнитесь, господа,
Вам не снискать признанья от Европы:
В её глазах вы будете всегда
Не слуги просвещенья, а холопы.
Но и само европейское просвещение, утратив к этому времени питавшую его христианскую почву, своё богатство и разнообразие, выродилось в несколько жалких формул, несущих, однако, руководящий смысл. Достоевский пояснял: «Они (европейцы. — В.В.) отвергли происшедшую от Бога и откровением возвещённую человеку единственную формулу спасения его: «Возлюби ближнего как самого себя» и заменили её практическими выводами вроде: «Каждый за себя, а Бог за всех» — или научными аксиомами вроде борьбы за существование». Однако если «каждый за себя», то нет никаких оснований уступать кому бы то ни было, и Богу, который «за всех», остаётся одно — всеобщую войну одобрить. Но воевать можно и без одобрения. Ссылка на Бога, да и сам Бог, здесь излишни.
Поскольку война всех со всеми признаётся нормальным состоянием людей, то водворить среди них более или менее сносный порядок и соединить их в некую общность нельзя иначе, как тоже только войною. Отсюда слова Бисмарка во время Франко-прусской войны, которые цитирует Тютчев в стихотворении «Два единства». Речь идет о двух противостоящих друг другу способах создания единства — католико-протестантском и православном, русско-славянском:
«Единство, — возвестил оракул наших дней, —
Быть может спаяно железом лишь и кровью…»
Но мы попробуем спаять его любовью —
А там увидим, что прочней…
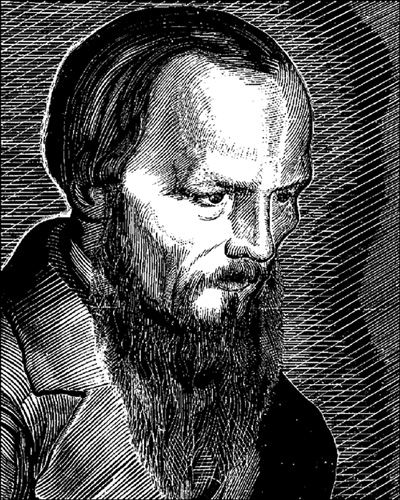 Для Достоевского, как и для Тютчева, утверждение Бисмарка о железе и крови — яркое свидетельство отступничества западного мира от христианства, открытая измена учению Христа.
Для Достоевского, как и для Тютчева, утверждение Бисмарка о железе и крови — яркое свидетельство отступничества западного мира от христианства, открытая измена учению Христа.
Единство, основанное на любви, — идеал святой Руси. Он возник и укрепился на почве восточного христианства, православной веры, сохранившей преданность Христу. Накануне крестного страдания и смерти Господь говорил своим ученикам: «Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам»; «Сие заповедую вам, да любите друг друга» (Ин.15,12—14, 17). Заповедь жертвенной любви, заключённую в словах Христа и подтверждённую Его крестной мукой, как главную и усвоил, благодаря православной вере, исповедующий эту веру русский народ. «Утраченный (на Западе. — В.В.) образ Христа, — писал Достоевский, — сохранился во всём свете чистоты своей в православии».
Отвечая либералам и западникам, обвинявшим народ в том, что он груб, тёмен, не просвещён и т. д., Достоевский писал: «Я утверждаю, что наш народ просветился уже давно, приняв в свою суть Христа и учение Его. Мне скажут: он учения Христова не знает… но это возражение пустое: всё знает, всё то, что нужно знать… Научился же в храмах, где веками слышал молитвы и гимны, которые лучше проповедей». Пусть он не всё понимает в подробностях богослужения, зато он слышит молитву, которую Великим постом читает священник: «Господи и Владыко живота моего…» В этой молитве «вся суть христианства, весь его катехизис, а народ знает эту молитву наизусть. Знает тоже он наизусть многие из житий святых… Главная же школа христианства, которую прошёл он, это — века бесчисленных и бесконечных страданий, им вынесенных в свою историю, когда он, оставленный всеми, попранный всеми, работающий на всех и на вся, оставался лишь с одним Христом-утешителем, которого и принял тогда в свою душу навеки», а вместе «с Христом, уж конечно, принял и истинное просвещение».
Оно строится на убеждении, воспринятом умом и чувством, что высшей ценностью и одновременно — единственно прочным, неколебимым фундаментом для общего блага является самоотверженная любовь. Несмотря ни на какие пороки и отступления, русскому народу присуще это «обоготворение любви, кротости, смирения», готовность жертвовать собой и служить другим до мыслимых, а иногда и до немыслимых пределов — до полного самозабвения. Из жертвенного подвига и добровольного служения другим, полагал Достоевский, и выйдет наконец не в фантазиях только, а уже на деле «свобода, равенство и братство для всех». «Были бы братья, — повторял он, — будет и братство». Вот почему «христианство народа нашего есть, и должно остаться навсегда, самою главною жизненною основой просвещения его!» Отказ от православия, от отеческой веры равносилен, по мысли писателя, отказу не только от «истинного просвещения», но и от народной жизни вообще, во всяком случае — от жизни самостоятельной и полноценной. В этой связи у Достоевского возникали серьёзные опасения относительно будущего: «Русскому народу ни за что в мире не простят желания быть самим собою. (NB. Весь прогресс через школы предполагается в том, чтоб отучить народ быть собою.) Все черты народа осмеяны и преданы позору… вместе с тёмным царством осмеяно и всё светлое. Вот светлое-то и противно: вера, кротость, подчинение воле Божией. Самостоятельный склад наш, самостоятельный склад понятий о власти». Ничего хорошего от такого попечения о нём передовой и прогрессивной интеллигенции, взыскующей исключительно западных благ, народу ждать не приходилось, ведь народ в большинстве своём не помышлял изменять своей вере.
Народ верит, что «спасётся лишь в конце концов всесветным единением во имя Христово». Возражая «господам европейцам нашим», Достоевский продолжал: «О, есть много и других «идей» в народе… Об них, об этих остальных идеях, я теперь и упоминать не буду… Но теперь я об этой лишь главной идее народа нашего говорю, об чаянии им грядущей и зиждительной в нём, судьбами Божьими, его Церкви вселенской. И тут прямо можно поставить формулу: кто не понимает в народе нашем его православия и окончательных целей его, тот никогда не поймёт и самого народа нашего. Мало того: тот не может и любить народа русского… А так как народ никогда таким не сделается, каким бы его хотели видеть наши умники, а останется самим собою, то и предвидится в будущем неминуемое и опасное столкновение».
Рассуждая о всеобщем братском единении, Достоевский не мог не думать о путях его осуществления. Эти пути, на взгляд писателя, и сложные, и простые вместе. Они заключаются в одном — в деятельной любви. Проповедь деятельной любви пронизывает последний роман Достоевского — «Братья Карамазовы» (1879—1880). Старец Зосима говорит: «Постарайтесь любить ваших ближних деятельно и неустанно». Число этих ближних ничем не ограничено. Оно естественно начинается с родных, а далее, в принципе, может увеличиваться за счёт всех и каждого. В черновиках к «Братьям Карамазовым» сохранились заметки: «О родственных обязанностях. Старец говорит, что Бог дал родных, чтоб учиться на них любви»; «Учитесь любить… С родственников»; «…на родственниках учиться любви»; «Семейство как практическое начало любви. Семейство расширяется: вступают и неродные, заткалось начало нового организма».
Достоевский не мог согласиться с мнением, что государство есть общество «по преимуществу свободное от религии и христианства», он считал, что такое мнение возникает из страха, «будто христиане (в христианском государстве. — В.В.) станут тотчас же избивать не христиан. Напротив, полная свобода вероисповеданий и свобода совести есть дух настоящего христианства. Уверуй свободно — вот наша формула. Не сошёл Господь со креста, чтоб насильно уверить внешним чудом, а хотел именно свободы совести. Вот дух народа и христианства!» Писатель не видел религиозной нетерпимости в русском народе даже на каторге. А прискорбные уклонения бывают везде и во всём.
У Достоевского, однако, мелькала мысль, что вселенская Церковь, будучи идеалом братской и счастливой гармонии, вряд ли достижима. Однажды в записной тетради 1875—1876 годов он для себя заметил: «Основная идея и всегда должна быть недосягаемо выше, чем возможность ее исполнения, например, христианство». Но писателя, похоже, это не смущало. Ведь идеал и всегда — нечто труднодостижимое. Главное в том, что он даёт общее направление, цель и исход чувствам и стремлениям, а, по убеждению Достоевского, вселенская церковь как идеал соответствует самому существу и потребностям русской души. Именно ей предстоит внести примирение в терзающие мир социальные противоречия, вместить в себя «с братской любовью всех наших братьев, а в конце концов, может быть, и изречь окончательное слово великой, общей гармонии, братского окончательного согласия всех племён по Христову евангельскому закону! Знаю, слишком знаю, что слова мои могут показаться восторженными, преувеличенными и фантастическими. Пусть, но я не раскаиваюсь, что их высказал».
Это было убеждение, выстраданное всей жизнью и выраженное писателем на последнем её пороге.
В.Е.ВЕТЛОВСКАЯ, доктор филологических наук, литературовед
https://ruskline.ru/opp/2021/01/13/slova_obrawennye_v_nashi_dni